Функциональная диагностика различных форм гиперандрогении
С целью установления происхождения гиперандрогении у женщин с повышенной экскрецией общих 17-КС применяется проба с преднизолоном (разновидность кортизоновой пробы). Дело в том, что, как известно, гликокортикоиды подавляют секрецию АКТГ передней долей гипофиза. При введении в организм они снижают андрогенную функцию коры надпочечников, если последняя обусловлена избытком АКТГ. В подобных случаях количество выделяемых с мочой общих 17-КС и дегидроэпиандростерона надпочечникового происхождения резко снижается. Если же гиперандроге-ния обусловлена опухолями коры надпочечников или яичников, то введение гликокортикоидов не влияет на экскрецию общих 17-КС и дегидроэпиандростерона.
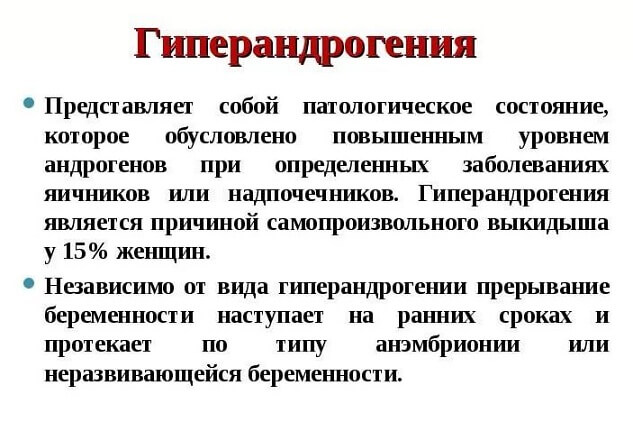
Для проведения пробы больным вводят внутрь в течение 5 дней по 10 мг преднизолона (или по 2 мг дексаметазона). Мочу для исследований собирают ежесуточно; проба считается положительной, если суточная экскреция исследуемых андрогенов уменьшается наполовину и достигает нормальных величин. Если же суточная экскреция не уменьшается наполовину, или не достигает нормальных величин, или, наконец, будучи по общим 17-КС нормальной, оказывается отрицательной по дегидроэпиандростерону, проба считается сомнительной.
В общем при гиперплазии коры надпочечников примененная проба дает положительные результаты, а при опухолях – отрицательные. При гиперандрогении яичникового происхождения проба с гликокортикоидами не оказывает заметного снижающего действия на экскрецию 17-КС.
При пониженной экскреции как общих 17-КС, так и дегидро эпиандростерона важным вопросом является установление, зависит ли гиперандрогения от недостаточности АКТГ аденогипофиза или является первично надпочечниковой. Для решения этого вопроса применяют пробу с АКТГ. С этой целью определяют су точную экскрецию общих 17-КС (а в некоторых случаях и дегидроэпиандростерона) до и после введения в течение 2 дней внутримышечно по 40 ЕД АКТГ. При гипофизарном генезе гипоандрогении наблюдается увеличение суточной экскреции указанных кортико-стероидов. Заметное увеличение указанных кортикостероидов после введения АКТГ при вирильном синдроме считается характерным для надпочечникового генеза этого заболевания.
Некоторые клиницисты охотно пользуются эозинопенической пробой с АКТГ, предложенной Thorn в тридцатых годах. Проба считается положительной, если количество эозинофилов в периферической крови снижается не менее, чем наполовину через 4 ч после внутримышечного введения 25 ЕД АКТГ.
Для дифференциальной диагностики происхождения вирильного синдрома некоторые клиницисты (Ю. А. Крупко-Большова и СВ. Покровская) рекомендуют функциональную пробу с хориогонином. При гиперплазии коры надпочечников введение хориогонина не ведет к усилению экскреции общих 17-КС, т. е. проба оказывается отрицательной, при яичниковом же генезе заболевания экскреции общих 17-КС увеличивается на 30–50%.
При обследовании функции коры надпочечников у женщин с гирсутизмом одновременное введение хориогонического гонадотропина человека и дексаметазона, по мнению Cooke с соавт. (1972), является важным тестом дифференциальной диагностики происхождения гирсутизма на основании изучения результатов ответной реакции на введение гормонов.
Cooke и др. было произведено функциональное обследование 26 женщин. У них определяли исходный уровень экскреции с мочой общих 17-ке-тостероидов, 17-гидроксикортикостероидов, прегнандиола и прегнантриола. После этого в течение 2 дней внутривенно вводили АКТГ по 40 ЕД в 500 мл физиологического раствора в течение 6 ч; затем назначали дексаметазон по 2 мг в сутки в течение 2 дней и по 8 мг на протяжении еще двух дней. В последние два дня введение 8 мг дексаметазона в сутки сочетали с внутримышечным введением хорионического гонадотропина человека (5000 ЕД). Осмотр яичников производили с помощью кульдоскопии или лапароскопии. У 15 женщин функция яичников и надпочечников была признана нормальной; в этой группе у 5 женщин гирсутизм признан конституциональным. Из 10 других женщин с нарушенной менструальной функцией у 3 найдены кисты яичников, у 7 – никакой патологии объективно не обнаружено. Во 2-й группе женщин (9 человек) выявлены функциональные изменения яичников, в частности установлен избыток андрогенов яичникового происхождения. В 3-й группе у 2 женщин обнаружены нарушения функции коры надпочечников.
Последовательность применения тестов подавления коры надпочечников и яичников с целью проведения дифференциальной диагностики синдрома поликистозных яичников сводится к следующему: если после введения по 0,75 мг дексаметазона в течение 7 дней содержание 17-КС в моче остается выше 3 мг в сутки, следует провести дифференциальную диагностику между поликистозными яичниками, вирилизирующей опухолью яичника и опухолью коры надпочечников. В случае дальнейшего падения экскреции 17-КС ниже 2,6 мг в сутки после семидневного дополнительного подавления функции яичников комбинацией из 0,1 местранола и 2,5 норэтинодрела – диагноз синдрома Штейна–Левенталя становится очевидным.
Д. А. Пальчик при проведении дифференциальной диагностики между склерокистозом яичников и адреногенитальным синдромом использовала у 37 больных пробу с предпизолопом, причем у 28 женщин отмечено значительное снижение экскреции 17-КС. Те же данные с указанной пробой были получены при наличии АГС. Однако отличия заключались в том, что у больных со склерокистозными яичниками произошло значительное уменьшение экскреции дегидроэпиандростерона и андростерона, экскреция же других фракций не изменилась. У больных же с АГС проба с преднизолоном вызвала уменьшение экскреции всех стероидов, что свидетельствует о более глубоких нарушениях функций коры надпочечников. Другими словами, у больных со склерокистозными яичниками потенциальные резервы коры надпочечников в отношении продукции гидрокортизона являются нормальными, у больных с адреногенитальным синдромом они снижены.
При предполагаемой диэнцефальной андрогении важны результаты комбинированной пробы с инфекундином и преднизолоном. В случае выявления значительного снижения 17-КС (на 40–50%) после приема инфекундина и столь же заметного уменьшения после приема преднизолона имеются достаточные основания диагностировать диэнцефальный генез вирилизации.
Ввиду крайней трудности проведения дифференциальной диагностики между обеими основными формами гиперандрогеиии, важно использование функциональных проб, в особенности пробы с инфекундином, который вызывает торможение экскреции лютеинизирующего гормона, стимулирующего синтез андрогенов в яичниках.




